Сравните и сопоставьте, как раскрывается проблема воспитания в двух изученных вами произведениях.
Воспитание играет ключевую роль в становлении любого человека, так как именно оно позволяет заложить нравственные основы и привить человеку определение идеи, взгляды. Кстати, необязательно процесс воспитания должен происходить сознательно: при длительном нахождении детей с человеком определенных взглядов или в обществе людей, разделяющих одну точку зрения или одни ценности, ребенок, скорее всего, сам все переймет. Особенно же интересно, как именно воспитание влияет на то, каким человеком ребенок вырастает. Недаром во многих произведениях авторы акцентируют внимание читателя на родителях героев и их влиянии на человека. Рассмотрим же, как раскрывается проблема воспитания в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и в романе-памфлете Ф.М. Достоевского «Бесы».
Не случайно оба произведения начинаются с представления отцов – Степана Трофимовича в романе «Бесы» и Андрея Петровича в «Капитанской дочке». Андрей Петрович у Пушкина – это отставной офицер царской армии России XIX века, дворянин, который, несмотря на свое звание, далек от так называемого света. По контрасту с ним, Степан Трофимович - либерал сороковых годов, который «всего только одну самую маленькую минуточку» принадлежал к элите общества и который не обладал ни талантом, ни силой характера, отчего и страдает. То есть Степан Трофимович - это полная противоположность Андрея Петровича. Их методы воспитания также полярны: Андрей Петрович является олицетворением принципов чести, которые хочет передать сыну, в то время как Степан Трофимович больше разглагольствует о абстрактных идеалах, о свободе мысли, о свободе личности вообще. Недаром рассказчик у Достоевского акцентирует внимание читателя на том, как его учитель вызывал в маленьком Николае Ставрогине «неопределенное ощущение… вековечной тоски». Эта тоска, как мы понимаем, и является отражением тех «неопределенных» и «туманных» ценностей либералов 40-х годов XIXвека, которых олицетворяет Верховенский-старший. Эти ценности и были внушены им как его малолетнему тогда сыну Петру Степановичу, выросшему потом в главного беса романа., так и его воспитаннику Николаю Ставрогину. Примечательна реакция рассказчика на то, что Ставрогина его мать-генеральша Варвара Петровна отправила учиться в лицей в Петербург: «хорошо было, что птенца и наставника, хоть и поздно, а развели в разные стороны». То есть Достоевский в данном случае демонстрирует, что наставник Степан Трофимович не способен был вложить в голову ребенку никаких ценностей – ни о каком воспитании речи не шло, так как для Верховенского-старшего маленький Ставрогин был, скорее, другом. То есть будучи сам отцом и воспитателем дворянских детей, родитель–человек, больше всех остальных ответственный за воспитание ребенка, не понимает, какие опасные взгляды и убеждения он закладывал в детей. Более того, Варвара Петровна предпочла отправить своего сына Николая учиться в Петербург, подальше, получается, от учителя.
Напротив, в «Капитанской дочке» Петрушу хотя и изначально хотели отправить на военную службу в столицу, однако Андрея Петрович не питал никаких иллюзий относительно тлетворного духа столицы и его негативного влияния на неокрепшие молодые умы: «Чему он (Петруша) научится в Петербурге? Мотать да повесничать?». Поэтому Петрушу отправили в Белогорскую крепость, которую известный литературовед И.А. Есаулов называет домом-крепостью, в котором царит совсем другая атмосфера, в которой не размыты традиционные духовные ценности русской культуры: понятия о чести, честном служении Отечеству, о человеколюбии и милосердии.
По контрасту, примечательно, что топонимика «Бесов» расширена включением образов заграницы, которые являются центром брожения революционных нигилистических идей, расшатывающих основы государств. И в общем, можно заключить, что в романе Достоевского фокус проблемы воспитания и становления личности был больше смещен на образы столицы и заграницы, перед которыми преклонялись все старшие либералы в романе. В то время как провинция в их представлении является лишь жалким отражением Петербурга. Таким образом, в сюжете романа «Бесы» формируется своеобразная иерархия пространственных образов: заграница как средоточие всего передового (и, следовательно, безоговорочно правильного), затем - Петербург, и только потом - провинция. Эта образная градация подтверждается тем, что Петра Верховенского и Николая Ставрогина отправляют сначала в Петербург в лицей, и там они формируются как выразители нигилизма, а затем - за границу, где Николай Ставрогин окончательно (как мы видим из сюжета романа) превращается в человекобога, а Петр Верховенский – в главного беса романа.
Таким образом, мы видим в романе Достоевского настоящую драму родителей в финале, которые чувствуют запоздалую вину за упущенную возможность сыграть направляющую роль в воспитании детей. К сожалению, они сняли с себя такую ответственность и миссию, которую Бог изначально возлагает на каждого родителя. Достаточно вспомнить метаморфозу Верховенского-младшего: Степан Трофимович с запозданием вспоминает, как его сын в детстве «ложась спать… крестил подушку,.. чтобы ночью не умереть». То есть в раннем детстве в душе Петра Степановича жила чистая вера в небесный Покров. Однако когда рассказчик рисует нам его портрет в первой части романа в эпизоде с Хромоножкой, характеристика Петра Степановича здесь совершенна противоположна: «кажется ничто не может привести его (Верховенского) в смущение», - замечает рассказчик. То есть, как мы видим, в либеральном обществе России середины XIX века, отравленном чужеродными идеями, детей воспитывали ведущие либералы-идеалисты, а не родители: «я не видал тебя десять лет!» - так восклицает Степан Трофимович, когда видит сына. Страна, таким образом, слепо следовала за «модными» идеологическими заграничными течениями, уничтожая тем самым свои исторические ценности и извращая молодое поколение.
У Пушкина же модные либеральные течения были прокомментированы с иронией уже в первой главе, что мы видим из комичного эпизода с французом Бопре, которого Андрей Петрович «прогнал со двора» и предоставил сына крепостному дядьке Савельичу, как только понял, что француз ничему не научит Петрушу, кроме как пьянствовать да повесничать. Этим автор символически подчеркивает то, что духовные основополагающие ценности должны «перевешивать» все модные идеологические поветрия. В «Капитанской дочке» также, в отличие от «Бесов», в сюжете прослеживается противопоставление образов столицы и провинции. Из реакции отца Петруши Гринева мы видим, что столицу (во времена Пушкина) считали местом соблазнительных искушений для юных неокрепших умов: «Чему научиться он (Петруша), служа в Петербурге? мотать да повесничать?». И поэтому отец отправляет Петра служить в Белогорскую крепость, которая по ходу сюжета заменяет ему родной дом. Там, в отличие от столицы (и тем более заграницы в «Бесах), культивируются идеи человеколюбия, на чем автор акцентирует особое внимание в главе «Поединок», в которой после дуэли Петра со Швабриным на гауптвахту были посажены шпаги, а провинившихся дуэлянтов «заставили друг друга поцеловать», то есть помириться, вопреки предписаниям жесткого официального военного устава в отношении дуэлей. Мы видим здесь главенство традиционных русских духовных ценностей над суровым законом. Как замечает ветеран Иван Игнатьевич: «доброе ли дело заколоть своего ближнего?». То есть человеколюбие, а не формальный порядок, стоял на первом месте даже в действующих военных частях. И, как мы видим, такой подход к оценке необдуманных горячих поступков молодых оказывал на их воспитание более эффективное воздействие. Воспитание Гринева в крепости происходит неявно, герой сам впитывает православные архетипы, живое воплощение которых читатели видят в семейном укладе Мироновых, где «муж и жена едина плоть и един дух» как в быту, так и в делах службы. Также как и дома, Петруше не проповедуют идеалистические теории, а демонстрируют ценности на примере.
Самое показательное, это, конечно, то, кем стали воспитанники в рассматриваемых нами произведениях. В «Бесах» молодое поколение, взращенное на чуждых русской культуре абстрактных теориях о свободе, превратились в циничных нигилистов и по сути в неостановимую разрушительную силу. Мы видим абсолютное отрицание ими основополагающих ценностей через созданную либералами в городе атмосферу шутовства и «легкомыслия», как замечает рассказчик. Начинают они с «безобидных» шуток друг на другом: как, например, продержать в плену поручицу. Потом же шутки перерастают в открытое глумление над главными ценностями общества: например, над книгоношей - которая продавала церковные книги и иконы: Лямшин «потихоньку подкладывает целую пачку соблазнительных мерзких фотографий из-за границы…» в ее корзинку. Дальше – больше: утром за разбитым стеклом ограбленной иконы в церкви обнаруживают живую мышь. Гротескной же кульминацией романа становится «благотворительный» праздник по «подписке в пользу гувернанток», на котором почувствовавшие свою безнаказанность деструктивные элементы города глумятся над всеми традиционными приличиями общественных собраний и, можно сказать, устраивают настоящую обструкцию местных либералов, их учителю и светиле передовой мысли Степану Трофимовичу. Который, увы, с опозданием понимает, гибельность внушённых им так называемых идей свободолюбия. Освобождённые от трансцендентной божественной природы выбора по совести люди утратили способность чувствовать роковую черту, где свобода превращается в анархию и влечёт за собой гибель многих людей в городе. Что мы и наблюдаем в финале романа в сцене пожара и подлого заговора доведения до самоубийства Кириллова и жестокой расправы над вовремя одумавшимся Шатовым, которого бесы заманили ночью в ловушку.
Трагические последствия дурного воспитания следуют ускоряющейся градацией ужасов в последних главах романа. Другой воспитанник Степана Трофимовича – Николай Ставрогин, представляющий в романе чистое воплощение зла, не выдерживает суда над самим собой, собственной рефлексии по всему содеянному им злу и тоже кончает жизнь самоубийством. Он представляет собой в романе как раз того Человекобога, которым хотел стать другой герой романа – Кириллов. Очевидна сюжетная параллель между самоубийством Кириллова и тем, как ушел из жизни Ставрогин. Начавший раскаиваться и осознавший пагубность выбранной жизненной дороги Кириллов мечется и не может решиться, в то время как Ставрогин хладнокровен (как почти всегда). «Все означало сознание и преднамеренность до последней минуты», - так говорит рассказчик о самоубийстве Ставрогина. Николай Всеволодович ставит себя выше Его (Бога). Он бросает вызов именно Ему каждым своим выходящим за пределы человечности поступком (растление несовершеннолетней Матреши, женитьба на калеке Лебядкиной, даже письменная исповедь, которую он просит прочитать старца Тихона). Главный же грех «Гражданина кантона Ури» — это то, что он поставил себя выше Бога в его стремлении безграничной власти, которая, по его мнению, обеспечивает и безграничную свободу индивидуума. А идея о безграничной свободе индивидуума была ему внушена именно либералом Степаном Трофимовичем. Не случайно старец Тихон видит единственное спасение Ставрогина в добровольном исполнении епитимьи: то есть в абсолютном подчинении его воли приказаниям другого старца-монаха, хотя бы в течение пяти лет. Только это, с точки зрения старца Тихона, позволило бы сломить непомерную гордыню «барича». Ставрогин – существо, уже не просто лишенное христианских ценностей, но без каких-либо границ вообще, то есть вершина Зла. Но Зла, которое не вынесло собственной тяжести: поняв, какие разрушения человеческих жизней он произвел, Ставрогин кончает жизнь самоубийством таким же способом, как растленная им Матрёша. Этот образный психологический параллелизм даёт понять читателю, что поклонение Злу неизбежно настигнет самого Беса, это зло сотворившего. Такое же наказание за неисполненный родительский долг настигает Степана Трофимовича, когда-то отказавшегося от родно сына.
В самой последней сцене романа главному бесу Верховенскому-младшему удаётся сбежать и уйти от наказания. Этот открытый финал романа сигналит читателям о том, что зло остаётся не убитым до конца, оно продолжает распространяться по стране и захватывать другие молодые умы.
По контрасту, в «Капитанской дочке» А. Пушкина стопроцентные антагонисты вроде Швабрина, который сдает Гринева лишь бы только самому не попасть в тюрьму, были явным исключением. И в романе Пушкина такое поведение, как мы видим, осуждается большинством персонажей и противопоставляется геройской духовной стойкости Петра Гринева, к которому вполне применимы знаменитые пушкинские строки о важности укоренённости человека в духовных приоритетах, выработанных нацией за века её становления: именно «любовь к родному пепелищу» и «к отеческим гробам» и обеспечивает «самостоянье человека, залог величия его». В то же время в романе-памфлете Достоевского предательство показано как норма поведения большинства персонажей, включая всех мелких бесов: так, например, Лямшин сдает всех участников убийства Шатова впоследствии, а Верховенский бросает в финале преданного союзника Эркеля.
Оба романа как литературоведы, так и современники писателей связывают с образом будущего. «Капитанская дочка», написанная в последние годы жизни Пушкина, определяется как «культурное завещание» автора русской нации. Ведь в своем романе он выделял то единственное, что может и должно прочно связывать народ – не вражду между амбициозными индивидуалистами, а православные архетипы соборного духовного строительства и удержания от расшатывания духовного фундамента русской цивилизации. И именно их, по мнению Пушкина, прежде всего надо передавать молодому подрастающему поколению. «Бесы», возможно, и не задумывались как роман-предупреждение, однако он таковым получился. Это произведение указывает на опасность одержимости искусственными социальными теориями, выдуманными отдельными образованными представителями общества, не выросшими из «гущи» реальной народной жизни и потому не связанными с духовными ценностями, но озабоченными лишь задачей собственного возвеличивания и самоутверждения на модных, но не проверенных временем социальных теориях. Примечательно, как в этих двух произведениях символически показана устойчивость идей православных и неизбежное вырождение нигилистических антихристианских идей. В «Капитанской дочке» присутствует лейтмотив семьи и продолжения рода: «Потомство их благоденствует в Симбирской губернии». И произведение заканчивается тем, что род Гриневых продолжился, и мы можем предположить, что, соответственно, и духовные ценности продолжали передаваться молодым. В то время как в «Бесах» ни у кого из нигилистов детей нет и, как следует из сюжета, быть не может. Более того, сам предводитель революционеров – Петр Верховенский, являющийся исторической аллюзией на нигилиста и революционера Сергея Нечаева, будто даже и не уверен, что Степан Трофимович – его отец, о чем косвенно упоминается в произведении. Это может быть интерпретировано как символ духовной беспочвенности. Этой деталью Достоевский подчеркивает беспочвенность всего либерально-революционного движения в Росси 60-70-х годов XIX века.
Таким образом, мы можем заключить, что ценности, лежащие в основании нации, и являются наиболее важным ориентиром в воспитании людей с совестью, способных к любви и эмпатии. А когда этого нет, то общество обрекает себя на вымирание – сначала духовное – затем и физическое.
(Михаил К., 18 лет) 2023
О проблеме утраты культурной идентичности в драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад»
(Детальный комментарий эпизода)
Как объясняют исследователи, именно в культурной идентичности заключены нравственные и моральные коды наций и модели поведения человека в обществе, которые удерживают человечество от угрозы дегуманизации жизни. Другими словами, это то, что помогает человеку оставаться человеком. Конечно, у каждой нации свой набор культурных традиций и верований. Однако современный процесс глобализации культур отчасти вступает в противоречие с концептом культурной идентичности и угрожает ей стиранием тех самых уникальных моральных нравственных ценностей. Глобальная культура стремится к распространению не национальной, а глобальной идентичности.Рассмотрим эту проблему на примере драмы Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарад».
В сюжете этой драмы автор углубленно исследует субкультуру покерных игроков, которая противопоставлена русской традиционной православной культуре, олицетворением которой является чистый образ жены Арбенина Нины. Вообще, немалая часть творчества Лермонтова, в особенности раннего, посвящено изучению зла, как философской проблемы. И здесь мы видим, что архетип тёмной и светлой стороны, борьбы между ними – сквозной мотив «Маскарада». Эпизод, который я выбрала для детального комментария, является композиционным центром этой драмы. Это кульминационный эпизод, в котором в борьбе за душу главного героя Арбенина зло одерживает верх.
В сюжете пьесы эта сцена идет после того, как Арбенин читает записку от князя Звездича, адресованную его жене. Он находится в глубоко подавленном и нестабильном эмоциональном состоянии. Тогда к нему приходит его так называемый друг Казарин. В молодости они были связаны общей страстью к игре и развлечениям. Сейчас же, из его собственных слов (монолога в первом действии), Арбенин сжег все мосты, ведущие к его прошлой разгульной жизни. Казарин остался единственным напоминанием об азартных играх, из пучины которых Арбенин с трудом вырвался. Данный отрывок композиционно делится на две части: монолог Казарина (искушение Арбенина) и монолог Арбенина – его отречение от пути добра и света. Именно визит Казарина стал своего рода спусковым крючком в этой точке сюжета. Казарин, как искуситель, «мелкий бес», словно заманивает Арбенина назад во тьму. И речь Казарина здесь насыщена образами физических удовольствий из прежней разгульной жизни:
Вот было время… Утром отдых, нега,
Воспоминания приятного ночлега…
Потом обед, вино – Рауля честь…
В граненых кубках пенится и блещет,
Беседа шумная, острот не перечесть;
Потом в театр – душа трепещет
При мысли, как с тобой вдвоем из-за кулис
Выманивали мы танцовщиц и актрис…
Этот отрывок из монолога является своеобразной аллюзией к первой главе романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», где автор описывал все удовольствия петербуржской светской жизни Онегина. С помощью приема аккумуляции этих образов и быстрого темпа данных строк, автор пытается передать хаос праздной светской жизни, когда каждый день похож на другой. И вершиной данной аккумуляции в монологе Казарина предстаёт образ золота: «на картах золото насыпано горой». Эта метафора Казарина, которую он произносит с неким наслаждением, говорит о замещении традиционных духовных христианских ценностей на ценности материальные в рамках этой замкнутой игровой субкультуры. Казарин на наших глазах словно бы заново восстанавливает, оживляет в воображении Арбенина этот мир зла и страстей, от которого Арбенин когда-то отрекся. С помощью нарастающей интонации и притягательных образов он, как опытный сектант, гипнотизирует старого друга, а уязвимость Арбенина в минуту слабости (ревности) только играет на руку искусителю. В ответ на риторический вопрос «Не правда ли, что древле все было лучше и дешевле?» Арбенин произносит свой монолог. Он романтизирует культуру азартных игр: «нестерпимые, но пламенные дни», «все сладости порока и злодейства». Эти оксюмороны говорят нам о том, что герой понимает разрушительность этой культуры, но всё же не может противиться своему самолюбию, ведь игра приносит ощущение собственного всемогущества, величия: «И если победишь противника уменьем,/судьбу заставишь пасть к ногам твоим с смиреньем/ - тогда и сам Наполеон тебе покажется и жалок, и смешон». Историческая аллюзия здесь (образ Наполеона) подчёркивает, что игра даёт ложное ощущение герою, что он является вершителем не только собственной, но и чужой судьбы. На протяжении всей пьесы за Арбениным замечается его желание властвовать над людьми, манипулировать ими. И в данном эпизоде мы видим, как характер главного героя, в начале пьесы представшего перед читателем мудрым, непоколебимым, немного циничным в своем отношении к жизни, но в целом порядочным человеком, ломается: «Беспечность и покой — не для меня они!». Удивительно, как быстро, без типичных для главного героя размышлений он отрекается от человечности и веры: «Прочь добродетель!». Этот поворотный момент в сюжете стал началом конца для Арбенина. Он отрекается от одной из центральных ценностей русской культуры – семьи: «Мне ль быть супругом и отцом семейства. Мне ль…». Здесь гипноз Казарина будто бы переходит уже в самогипноз, и это подчёркивается анафорой «Мне ль… Мне ль..». Это устрашающая картина, которая показывает, насколько сильна субкультура игроков с их ложными ценностями. Арбенину казалось, что он не был безнадежным грешником, однако даже такой сильный человек не устоял, так как он уже был отравлен ядом богоборчества.
В этом же эпизоде мы можем заметить настойчиво повторяющийся образ смерти. Художественное сравнение игрока с мертвецом в могиле, гипербола «страстей и ощущений тьма» раскрывают образ души мертвой. Это мир жестокий и холодный, лишенный всяких человеческих чувств. И в следующем действии мы уже наблюдаем совершенно нового Арбенина, который использовал игру как инструмент мести своему некогда другу князю Звездичу. Грань между игрой и реальностью для него стирается. После того как он вновь спускается в преисподнюю мира игроков, в нём проявляются не человеческие, а демонические черты. Мы видим некую цикличность в судьбе героя: Арбенин снова оказался там, откуда начинал свой путь.
Далее читатель наблюдает горькую авторскую иронию. В последующих сценах Лермонтов показывает последствия отречения от культурной идентичности. Арбенин сам становится жертвой мира, который он превозносит. Теперь уже играет не он, а им. Приняв на себя роль мстителя, Арбенин подписал приговор не только жене, а и себе. В финале произведения судьба в наказание отнимает у Арбенина самое дорогое, то, что он ценил больше всего – разум. Главной идеей автора является показать опасность субкультуры, которая делает нестойкими основы, расшатывая традиционные ценности. В произведении продемонстрированно, как апостасия вместе с пренебрежением к традиционным духовным ценностям играет ключевую роль в разрушении индивидуума. Греху противопоставляются духовные ценности православной культуры в этой драме. Они являются скрепляющим звеном русского общества, их функция – удерживать целое нации от развала.
Арина М., 18 лет (2021 г.)
Что есть истина? (По роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»).
Что есть истина? Бессмертный вопрос, который волновал умы древнейших мыслителей и мудрейших философов. Интерес к нему никогда не остывал, и не удивительно, что М.А. Булгаков, писатель-мистик, не обошёл его стороной. Он решил поискать ответ на вопрос древности в самой древности и безошибочно выбрал место и время, в которых нужно искать. Нет никаких сомнений в том, что для себя он нашёл ответ, но нам он решил указать лишь направление для поиска, так как каждый человек должен найти ответ на непростой вопрос сам.
Так где же его найти, как не в словах того, кто является носителем истины? Булгаков ясно даёт нам это понять тем, что открыто ставит этот вопрос в диалоге Понтия Пилата с Га-Ноцри. Эта тема часто затрагивается в произведении, но прямого ответа мы не получаем. Мы слышим, что истина в том, что у Пилата «болит голова», что «казни, на самом деле, не было», что Иисус (равно как и дьявол) существовал (это слова Воланда, который, несмотря на то, что является противоположностью Га-Ноцри, тоже носитель истины)…
На самом деле, истина повсюду, она окружает нас, но мы зачастую не принимаем её, не хотим или не можем обратить на неё внимание, ведь нам гораздо легче живётся вне её пределов, в тех маленьких мирках, которые люди создают вокруг себя из лжи.
Но истина в том, что, несмотря на отрицание её людьми, она остаётся истиной, с которой может столкнуться любой, желая или не желая этого. Так, например, столкнулся с ней Пилат, когда его посетила мысль о бессмертии; так с ней столкнулся Иван Бездомный, когда беседовал с Воландом и Мастером или когда наблюдал за Николаем Ивановичем, ловящим в воздухе свою потерянную Венеру; так с ней «столкнулся» и Берлиоз, когда попал под трамвай… В этом романе с истиной столкнулись все, но не все узнали её в лицо (или не захотели узнать).
Именно из-за того, что истина, как считают люди, лишь мешает жить и поэтому никому не нужна, и был отвергнут роман Мастера. Он пытался донести её до людей, показать истинные мысли и чувства Пилата, но это не затронуло тех, кто уже давно привык жить не по чести и совести, а по рабочему уставу. И от истины отреклись именно потому, что чаще всего она не вписывалась в этот самый устав.
Вера тоже часть истины, и от неё люди отреклись, так как боялись отвечать за свои поступки перед лицом того, чего они не понимали, на что не могли повлиять, что не руководствовалось земными уставами. Ведь гораздо легче держать ответ перед реальными живыми людьми, также не имеющими собственного мнения и следующими чужим указаниям (скорее всего, этим и объясняется возведение начальников, представителей власти в статус богов). Всё это и составляет такое понятие, как «трусость».
А истина в том, что трусость, действительно, «самый тяжкий порок», так как именно она застилает глаза человеку, заставляя его отказаться от истины. Этот порок наказывается очень сурово: Понтий Пилат «малодушно помышлял о яде» и за свою трусость и нерешительность в деле Га-Ноцри был обречён на вечную жизнь, ставшую для него вечной мукой, а Мастер, ведомый каким-то непонятным страхом, сжёг свой роман и лишился всего, что любил.
Но истина заключается ещё и в том, что всех кающихся прощают, даруют им покой, освобождают их от губительного страха, убирают все преграды на их пути к истине.
О чём же говорил Иешуа? Он говорил о том, что истина - в человеке, в его мыслях, чувствах, его действиях. Она – в его поступках, на которых строится реальность – истина. С одной стороны, она зависит от человека, с другой, - он не властен над ней, и не важно, принимает ли он её или нет, - она продолжает существовать. Взаимоотношения человека и истины подобны отношениям Мастера с его романом: он создал его, но постоянно от него бежит, даже пытается его уничтожить, а роман, в свою очередь, преследует Мастера, постоянно напоминая о себе. Слова Воланда «рукописи не горят» означают бессмертие всего, чему была дарована жизнь, что стало частью реальности, а следовательно, - истины.
Истина – это жизнь, но не та, которая оканчивается смертью, а та, которая, не обращая внимания на временнЫе рамки и не имея конца (жизнь души), становится достоянием человечества и всего мира».
(Светлана Зайцева, 17 лет) 2004 г.
Раскройте роль пространственных образов в двух изученных произведениях
Многие согласятся, что у большинства людей часто возникает эмоциональная, или лучше сказать душевная связь с определенным местом: это может быть родной для человека городок или деревня, или же просто место, с которым связаны определенные воспоминания. Не удивительно, что и в литературе антураж произведения зачастую имеет эмоциональное воздействие на читателя и на его восприятие событий в произведении. Уникальная обстановка, которую каждый автор создает в своём произведении, косвенно или напрямую помогает донести до читателя авторский посыл, уловить главную мысль. Рассмотрим, как антураж произведения влияет на восприятие происходящего читателем на примере произведений «Сердце Тьмы» Джозефа Конрада и «Белые одежды» Владимира Дудинцева.
Оба автора отразили через пространственные образы многие особенности тех эпох, о которых были написаны эти два произведения (расцвет европейского империализма в конце XIX века и последние годы сталинской эпохи). Одной из главных целей обоих авторов было обличение зла и несправедливости в политических и социальных сферах описываемых эпох, и вполне естественно, что первой ступенью на пути к воплощению этой цели является создание эмоциональной связи с читателем, однако, каждый из авторов делает это по-своему.
Так, Владимир Дудинцев уже в самом первом параграфе произведения обозначает место, где будут развиваться дальнейшие события: «Стоял тихий сентябрь. Воскресное утро, может быть, последнее ласковое утро уходящего лета, тихо, как младенец, играло солнечными пятнами и тенями. Громадный институтский парк дремал, раскинувшись на двух холмах, которые здесь назывались Малой Швейцарией». Идиллический пейзаж, кодоторый рисует Дудинцев, создает у читателя ощущение умиротворения, заставляет чувствовать себя в безопасности, как тот «младенец», что играет с солнечными пятнами. К тому же, само название институтского парка – Малая Швейцария - навевает мысли о процветании и гармонии. Кроме того, Швейцария ассоциируется не только с цветущей природой, но и с известными научными академиями. Таким образом, очевидно, что даже само название парка крайне символично в контексте этого произведения, так как героями этого романа являются советские учёные, представители русской школы менделевской генетики. Идиллическое описание пространства в самом начале произведения было необходимо, чтобы затем с наибольшим контрастом показать изменения, которые будут происходить в научном обществе маленького провинциального городка, и которые повлияют не столько на само место, сколько на людей, живущих там. Спокойствие и гармония сменятся параноей и страхом.
Совершенно контрастным является представление пространственных образов в «Сердце тьмы»Джозефа Конрада. В отличие от Дудинцева, который постепенно представляет читателям место событий, где будет разворачиваться повествование, у Конрада с самого начала пространственные образы меняются резко, как в калейдоскопе: читатель находится на яхте «Нелли», а уже через минуту мы уносимся к туманным английским берегам, захваченные рассказом Марлоу, а вскоре оказываемся на грязных улицах Лондона вместе с главным героем. Автор буквально не дает ни минуты для передышки читателю, смущает его постоянной сменой «декораций», крутит в водовороте мест. Это вызывает чувство таинственности и опасности, которое автор старается передать читателям, чтобы эмоционально настроить нас на путешествие к угнетённым африканским берегам. Более того, эта смена пространства косвенно даёт читателю представление о героях произведения – первооткрывателях, готовых многим пожертвовать ради своих целей. Вначале речь идёт о безымянном римлянине из рассказа Марлоу, который в «те далекие времена» (примерно IV век н.э.) осваивал Англию, и затем - об агенте Куртце, мрачном представителе европейского империалиизма в Африке на закате XIX века. Обоих героев объединяет тщеславие и амбиции в стремлении покорить новые неизведанные земли. Наконец, нам представляется герой-рассказчик Марлоу, который выступает в несколько отличной роли наблюдателя: оказавшись в чужом культурном пространстве, он не делает попыток навязать аборигенам собственную культуру, как типичный колонизатор или римский завоеватель. К должности капитана речного судна в одной из торговых компаний, базирующихся в Африке, его приводит исключительно гуманистический интерес. По прибытии в африканскую страну Марлоу не пытается удволетворить какие-либо экономические или политические амбиции, но с живым интересом изучает происходящее в этой стране. В этом и заключается его сходство с Фёдором Дежкиным, главным героем «Белых одежд»: они оба являются героями, склонными к рефлексии и взвешиванию собственных решений в ситуации, когда они сталкиваются с идеологией инаких социальных сообществ. Именно это качество отделяет их от персонажей с деспотичным сознанием в обоих произведениях (таких, как академик Рядно и агент Куртц).
В обоих произведениях использован приём пространственной антитезы, поддерживающей центральный конфликт между светлым сознанием, открытым мировоззрением героев, с одной стороны, и сознанием, подверженным искушению тёмной силы власти и денег. Так, в романе «Белые одежды» противопоставляется Москва как символ государственной власти, и академгородок - как символ последнеднего оплота «менделевской» науки, истины и человечности. Не случайно, что Дежкин прибывает в академгородок из Москвы в роли инспектора-инквизитора (Торквемады, как его окрестили сотрудники института). Эта историческая аллюзия переносит читателя во времена средневековой Испании, когда любое стремление к научному знанию было подвержено гонениям со стороны инквизиции. Торквемада был главным инквизитором Испании. Интересно, что образ Торквемады, скорее, направлен на сравнение с Рядно, нежели с Дежкиным, потому что Дежкин впоследствии отказывается от своей роли «инквизитора» и встает на защиту учёных. В образах Рядно и Торквемады можно найти как сходства, так и отличия: они оба являлись инициаторами и главами гонений на ученых – каждый в свою эпоху - и оба отличались бескомпромиссностью своих методов. Однако Торквемада также отличался крайне аскетичным образом жизни и был полностью одержим своими убеждениями, в то время как Рядно преследовал исключительно личную выгоду и очень любил комфорт. Автор подчеркивает, что «ничто человеческое не было чуждо» академику, а именно, его земные слабости – крепко попариться в баньке, любовь к выпивке с закусками, пристрастие к хорошим костюмам (в то время как в народ он выходил исключительно в косоворотке). Таким образом, Дудинцев через использование исторической пространственной аллюзии показывает слабость характера Рядно, котрый отражает дух эпохи в целом: деспоты XX века в своей массе стремились завоевать посты не в силу своих фанатичных убеждений, а с целью извлечения личной выгоды. Более того, читателю важно понимать, что сам академик Рядно является литературным двойником реального академика – академика Лысенко, а ученые в произведении – сборным образом, олицетворяющим всю оппозиционную науку той эпохи.
К тому же Москва в этом романе предстает перед читателем как оплот академика Рядно, который лишь редкими визитами навещает Дежкина в институте. Более того, Дежкин сам несколько раз возвращается в Москву, где посещает свою старую квартиру. Упоминание старой квартиры Дежкина можно расценивать в метафорическом смысле как противопоставление его «старой» и «новой» личностей. В то время как его маленькая «келья» в академгородке символизирует самоотверженность и преданность науке, искреннее и благородное желание служить истине, - его старая квартира символизирует период жизни, когда Дежкин еще не до конца осознавал направление своего жизненного пути и не до конца осознавал зло в учениях Рядно. Таким образом, антитеза пространственных образов в «Белых одеждах» играет сразу две роли: подчёркивает эволюцию личности учёного Фёдора Дежкина и усиливает контраст между репрессивной столичной властью и свободолюбивой наукой в академгородке.
Другим хорошим примером пространственной символики в романе В. Дудинцева является здание местного управления КГБ в академгородке, куда попадает Дежкин. Интерьер здания кажется Дежкину пугающе однообразным, а изогнутые коридоры - бесконечным лабиринтом. Можно предположить, что такое восприятие интерьера Дежкиным намекает на безликость и бездушность государственной машины, в которой нет места индивидуальности и человечности. Этот приём сопутствует сквозному мотиву «униженных и оскорблённых», раскрытию преступлений против человечности, совершаемых органами КГБ.
Не трудно заметить, что в «Сердце тьмы» также имеет место противопоставление разных типов пространств в пределах одной колонизированной страны. Читатель постоянно сталкивается с двумя противоположностями: побережье африканской страны и её «сердце», торговая станция и джунгли, корабль и глушь. Подобная пространственная антитеза усиливает и поддерживает один из главных мотивов в произведении – мотив «света и тьмы». Данная антитеза ярче подчёркивает контраст между светом и тьмой, чтобы нагляднее показать читателям разрушительное воздействие европейского империализма на культуру африканской страны и её жителей. Роль пространственных образов ещё более усиливается в третьей части повести: пространство практически становится отдельным персонажем в произведении, когда автор использует прием персонофикации, говоря о «глуши». Глушь становится символом зла и искушения, ведь именно глушь «приласкала» агента Куртца и «приняла его в свои объятия». Этот факт поднимает роль пространства на качественно новый уровень и не случайно, что этот образ вступает в произведение именно в третьей части повести, когда читатель пытается понять мотивы Куртца, найти оправдание его поступкам.
В финале произведения читатель узнаёт, что Куртц отправился в Африку, поскольку не мог позволить себе жениться на возлюбленной из-за своей финансовой несостоятельности, но в итоге «глушь» искусила его ощущением лёгкой власти, дав Куртцу почувствовать себя богом. Спрятавшись как можно глубже в середце страны от остальных колонизаторов, Куртц буквально сделал аборигенов своими рабами, заставил боготворить себя, а слоновая кость, которую вожди племен отправляли Куртцу в знак покорности, символизировала опьянение властью. Ведь именно словновую кость Куртц использовал как интсрумент для создания собственного образа доблестного агента, «который в одиночку добывал больше слоновый кости, чем все остальные агенты компании вместе взятые». Однако, следует сказать, что таким образом «глушь» сыграла свою злую шутку над Куртцем, ведь некогда «цивилизованный» представитель европейского империализма, который смотрел свысока на аборигенов и их обычия, в итоге сам перенял обычаи и образ жизни «дикарей». Глушь отомстила Куртцу за его высокомерие и слепые амбиции: Куртц умирает «иссушенный» глушью до состояния полумумии, так что Марлоу, который так хотел встретиться с «легендарным» агентом, в итоге увидел «его тело, страшное и жалкое, видел как двигались его рёбра, как он размахивал костлявой рукой». Ироничны и ритуальные проводы идола: это является апогеем судьбы Куртца. Однако очевидно, что он пошел по «лёгкому» пути, придя в общество, где власть было легче получить с помощью насилия и запугивания: «Он пришел к ним и принёс с собой гром и молнию... Он был страшен».
Последней каплей в развенчивании образа Куртца является встреча Марлоу с «нареченной» Куртца – его невестой, на которой он хотел когда-то жениться. В силу незнания событий, произошедших с Куртцем, она продолжает верить в него и представляет его героем. Читатель же знает, что Куртц променял свою «нареченную» на красавицу из дикого племени. Таким образом, «глушь» вскрыла все человеческие изъяны и мелочность стремлений этого героя.
Особо следует упомянуть о центральном пространственном образе в «Сердце тьмы» - образе реки, по котрой Марлоу углубляется в глубь страны и по которой до него проделывал свой путь Куртц. Этот образ неразрывно связан с мотивом фатализма в повести, присутствие которого ощущается уже в самом начале произведения: когда Марлоу прибывает в офис торговой компании, он с удивлением обращает внимание на двух вяжущих старух, напоминающих сестёр Мойры из греческой мифологии, вяжущих «нить судьбы». Река и оборачивается этой нитью для героев: она затягивает героев в глубь страны, в самое «сердце тьмы», где каждый из них должен пройти испытание на свои человеческие качества. Только Марлоу удается выбраться из глуши, оставшись «человеком», благодаря его способности к саморефлексии и уважению к неизвестной культуре. Марлоу не ставил своей задачей навязать аборигенам европейскую культуру или подчинить себе неизвестный ему мир.
Похожий символ испытания духовной стойкости героя использован и Владимиром Дудинцевым в «Белых одеждах». Это образ метафоричной железной трубы, которая сперва упоминается автором, как символ испытаний, с которыми предстоит столкнуться главному герою: «Цвях мне как-то говорил, что многих из нас ждет своя железная труба. Попадёшь в неё – выхода только два: вперед или назад. Компромиссных решений нет...» Эта железная труба становится символом тяжёлого нравственного выбора главного героя – пойти вперед, самоотверженно служа истине, или же отступить, закрывая глаза на лжеучения академика Рядно. Впоследствии эта труба перерастает свой метафорический образ и превращается в совершенно реальную коммуникационную трубу, по которой Дежкин совершает свои тайные вылазки к академику Стригалёву. Точно так же, как река в «Сердце тьмы» ведёт главного героя к познанию человеческого зла, так и труба в «Белых одеждых» ведёт Дежкина буквально к самому олицетворению истины, определяя кто он - «ищущий истину отчаянный смельчак или трус, прячущий под себя свои жалкие пожитки».
Финалы обоих произведений объединяет образ дома, к которму авторы приводят читателей. В «Белых одеждах» повествование заканчивается на счастливой ноте в Московской квартире Федора и Лены: «От этих двоих веяло покоем. Это было впечатление достигнутой мечты». Нравственный выбор, который не побоялся сделать Дежкин, привёл его к этому семейному счастью. Однако, если оглянуться назад, можно вспомнить, что и квартира бабушки Лены, в которой они жили с Дежкиным, была пропитана атмосферой счастья. Совершенно контрастным является описание интерьера в квартире Кондакова: «покрытые жиром сковородки» и «бегающие по столу тараканы» являются отражением сущности нечистого в отношении к женщинам поэта-искусителя. Можно впомнить и дом профессора Посошкова – некогда счастливая семейная атмосфера была разрушена отступлением Посошкова от своих убеждений и веры. Похожим образом развернулась судьба для агента Куртца в «Сердце тьмы» - не пройдя испытание жизни, Куртц не сумел вернуться домой к своей возлюбленной, а погиб в одиночестве в глухих джунглях.
Таким образом, символ дома объединяет финальную идею в обоих произведениях – идею о личном человеческом счастье, которое может быть достигнуто исключительно через жизненные испытания и трудный моральный выбор.
(Дмитрий Г., 18 лет, 2014).
Как речь литературных героев помогает читателю оценить их внутренние качества и мировоззрение?
Речь, несомненно, играет важную роль в формировании отношений и поддерживании общения между людьми, помогая нам наиболее четко выразить свои идеи, или же поделиться своим собственным восприятием этого мира с теми, кто нас окружает. Вторая не менее важная функция устной речи заключается в ее способности отразить характер человека, выстроить перед собеседником полноценную картину его личных качеств, душевного состояния или же уровня образованности. В литературе речь героев не только доносит до читателя их мысли, но и определяет их духовный статус. На примере романов «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, а также «Аустерлиц» Винфрида Зебальда проследим за ролью речи основных действующих лиц и ее способности отобразить их внутренний мир.
Главный герой романа Булгакова, Мастер, наделен самым настоящим даром. Он и его возлюбленная Маргарита – единственные люди в двуличном московском обществе, способные испытывать высокое человеческое чувство, любовь, и готовые платить за него высокую цену. Это делает Мастера идеологически «чужим» человеком в своей общественной среде, что выражено через контраст типов речи, используемых героем и окружающими его “мелкими бесами” московского общества. В репликах таких персонажей, как главный член МАССОЛИТа Берлиоз, доминирует повествовательный тип речи, а также разговорный стиль, включающий в себя «опошляющие» русский язык сокращения слов, аббревиации, настолько характерные советскому периоду, и даже грубую лексику («Сволочь!», «Дура!», «Кретин!»), что свидетельствует об их поверхностном восприятии мира. Речь Мастера же чаще всего принимает форму рассуждения. Он постоянно прибегает к вопросительной интонации, использует большое количество риторических вопросов и восклицаний («Ах, какая у меня была обстановка!», «Необыкновенно пахнет сирень!»…) и в целом искренне выражает свои впечатления об окружающих его людях и пройденных им этапах своей собственной жизни, что является характеристикой думающего и образованного человека.
Так как главный герой Булгакова сам является писателем, его поэтическая натура передана через доминирующий в речи героя художественный стиль. Обилие различного рода художественных приемов, таких, как, например, яркие запоминающиеся эпитеты и метафоры («тревожные желтые цветы») или же порой эпатирующие олицетворения и художественные сравнения («любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке») подчеркивают тонкость восприятия героя, возвышая его личность над утопающими в материалистических ценностях «псевдопоэтами» МАССОЛИТа. Мастеру важны детали в окружающем его мире. Мимолетные описания погоды, внешнего вида людей, цветов и множества других визуальных деталей делают его речь похожей на литературный «эскиз» или же художественную зарисовку. Мастер – художник в душе, обладающий невероятно ценной способностью видеть прекрасное даже в самых обыкновенных деталях, вроде запаха цветов, света майского солнца или же “пачкающей пальцы” картофельной шелухи.
В речи Мастера, с точки зрения синтаксиса, преобладают короткие предложения, большинство которых заканчиваются многоточием, что подчеркивает плавный, мечтательный темп его устной речи. Обилие эллипсисов выражает тенденцию героя стремительно переходить от одной мысли к другой («Так уж, знаете ли вы, кулаками… Впрочем, вы это оставьте, навсегда»), делая его речь несколько похожей на «мысли вслух», поток сознания, свойственные по-настоящему искреннему, думающему человеку. Однако несмотря на психологическую открытость, герой не сразу доверяет незнакомым ему людям; он ведет себя крайне осторожно при первой встрече с поэтом Бездомным, его речь наделена здесь большим количеством вопросительных предложений, чем напоминает «допрос» («Как же вы сюда попали?», «Вы, надеюсь, не буйный?»). Лишь убедившись в том, что Бездомный заслуживает его доверия, Мастер решается поделиться с ним историей написания своего романа и своей несчастной любви к Маргарите, проникнутой необычайной искренностью и яркими эмоциями. Это показывает читателю, что чувствительность Мастера неоднократно подавлялась окружающими его людьми, что и сделало его более замкнутым и осторожным. Однако в Иване Бездомном он почувствовал единомышленника, только что пережившего потрясение от встречи с Воландом, антиподом героя романа Мастера – Иешуа. Эта встреча перевернула мировоззрение молодого поэта, и именно поэтому Мастер проникается доверием к нему и еле сдерживает свои эмоции, раскрывая душу своему слушателю и не скрывая от него ни одной детали своих внутренних переживаний.
В речи протагониста романа Зебальда, Жака Аустерлица, как и в речи Мастера, преобладает рассуждение. Этот герой также способен видеть мир глазами искреннего и думающего человека, что вдохновляет его на долгие размышления, построенные вокруг его собственных знаний об истории, архитектуре и его собственной жизни. Так, например, повествование Аустерлица о бельгийской архитектуре плавно переходит в экзистенциальное рассуждение о строительстве крепостей и связанных с ними понятий политической власти и человеческих амбиций. Он критикует этот «выведенный из золотого сечения идеальный тип» старых военных крепостей, представляющий собой не столько «гений инженера», сколько символ «абсолютной власти», ставшей главным «заказчиком» данных конструкций. Аустерлиц иронизирует над тем, что строительство этих крепостей постоянно отставало от развития военных технологий, подчеркивая тот факт, что ни одна из конструкций так и не послужила абсолютно надежным средством защиты. Все они в современной истории остаются никому не нужными заброшенными «архитектурными гигантами». Тонкая ирония Аустерлица отображает уровень интеллекта героя. Лишь по-настоящему эрудированная личность способна оценить масштабную логику истории и настолько метко высветить пороки индустриальных тенденций и ложных материалистических ценностей нового тысячелетия сквозь всевозможные «энциклопедические» аллюзии, тонко критикуя их. Ирония Аустерлица доступна не каждому – она адресована такому же образованному и думающему собеседнику, как и сам герой.
Синтаксические элементы речи Аустерлица включают в себя длинные фразы, порой с обилием аккумуляций, а также эллипсисов и многоточий. Практически каждое из предложений в повествовании героя растягивается как минимум на три строки, придавая его речи мягкий, медленный темп: «Часы мне всегда казались чем-то нелепым, чем-то таким, что лживо по природе своей, может быть, потому, что я, подчиняясь какому-то мне самому не вполне ясному внутреннему позыву, всегда противился власти времени». Спокойный ритм речи Аустерлица, который можно проследить в данном высказывании, свидетельствует о его мудрости и духовной глубине, а длинные предложения подчеркивают его интеллект и жизненный опыт, которыми герой стремится поделиться со своим собеседником. Ведь по-настоящему образованному человеку всегда есть много чего рассказать.
Уровень интеллекта и культурного развития Аустерлица выражен также в его отборном словарном запасе. В описаниях пространства, людей, событий герой ни разу не повторяется, постоянно используя не совсем обычные эпитеты, метафоры, например: «в процессе умирания человек укорачивается точно так же, как садится льняная ткань, когда её в первый раз стирают». Или прибегает к гротескным сравнениям для точного выражения силы его эмоций, как, например, он описывает Лондон с высоты Гринвического холма: «город несочтённых душ, нечто неопределимое, согбенное, серое или, скорее, напоминающее по цвету гипс, некоторое подобие разросшейся опухоли или струпьев». Многочисленные аллюзии в речи Аустерлица (карты Ричиоли, теории Ньютона, цитаты из Библии) также свидетельствуют о высоком интеллектуальном уровне героя. В целом, главный герой романа Зебальда – невероятно мудрый человек, обладающей высшей степенью эрудиции и в научной, и в культурной сфере, что в некотором роде отдаляет его от читателя. Однако несмотря на это интеллектуальное превосходство, Аустерлиц является по-настоящему чувствующим человеком, способным испытывать эстетическое умиротворение от образов «горных хребтов с бьющими родниками» и «подгоняемого ветром дыма». Аустерлиц – в равных пропорциях и ученый, и художник, знания и размышления которого интригуют собеседника, а мягкий тон речи приглашает читателя полностью довериться герою и часами слушать его повествование.
Можно также заметить, что в речи протагонистов обоих романов – Мастера и Аустерлица - отчетливо присутствует один приём постмодернистской техники: в повествовании героев доминирует ассоциативное мышление, которое позволяет свободно путешествовать в разных исторических пространствах. Речь Аустерлица, например, более похожа на поток сознания, «мысли вслух». На протяжении всего романа герой проводит параллели между прошлым и настоящим: так, серое небо и угрюмая атмосфера современного Лондона наводят его на мысли о таком же сером и холодном Уэльском доме священника Элиаса, в котором прошло его детство. Этот же прием встречается и в исповеди Мастера Ивану Бездомному – его сознание одновременно существует в двух эпохах: сталинской Москве и античном Ершалаиме.
Смена этих эпох в сюжете сопровождается сменой стилевых доминант в повествовании. Так, в московской части романа используется форма прямой речи героя, с преобладающем в ней художественным стилем. В Ершалаимских же главах романа, где сам Мастер становится рассказчиком, ритм его речи звучит как торжественная поступь, что соответствует особенности стиля мифов и легенд далёкого прошлого. Это переплетение стилистических пластов в повествовании свидетельствует о преображении самого Мастера. В Москве он представлен читателю обычным человеком, «бездомным» героем, ставшим жертвой давления литературных критиков и тоталитарного политического режима. В главах же своего романа он становится творцом истории, что и объясняет выбор имени, которое сам Булгаков решил дать своему герою.
В то время как повествование в романе Булгакова четко структурировано, и каждая из чередующихся глав посвящена одной из двух описываемых им эпох, в романе Зебальда деление на главы отсутствует совершенно (автор также решает не делить речь героев на отдельные абзацы). Отсутствие организации в романе «Аустерлиц» раздражает многих литературных блогеров, критикующих отсутствие традиционного диалога в данном романе. Один из них даже сравнивает чтение романа с «прогулкой по незнакомому городу в сильнейшую метель»: «Ничего не видно (…) ведет речь рассказчик, одолеваемый свободными ассоциациями, перескакивающий с темы на тему (…) разобраться в этом хаосе нет никакой возможности».
Трудно согласиться с этим категоричным высказыванием: в речи главного героя романа вовсе нет никакой хаотичности – присмотревшись, в ней можно разглядеть «архитектурную» структуру, близкую художественному мышлению истинного творца, каковым герой и является. Не будем забывать о том, что повествование в данном романе ведется в строгом хронологическом порядке: воспоминания Аустерлица аккуратно простроены от самого его детства, вплоть до его встречи с повествователем. Данная структура, однако, скрыта в обилии лирических отступлений и деталей интертекста, включающего в себя множество различных эпох, от средневековья до Второй мировой войны, что свидетельствует о широком социокультурном опыте повествователя. Герой не скрывает от своего слушателя абсолютно ничего – его речь принимает образ реки жизни, и читателю предоставляется возможность окунуться в нее вместе с самим героем, проследить за тем, как самые важные моменты в жизни Аустерлица, от самого начала войны и утраты родителей, до последующего поиска знаний о своем прошлом, стремительно проносятся у него перед глазами, позволяя нам медленно «проплыть» по реке судьбы незаурядного человека с чутким сердцем.
Эта способность к тонким переживаниям героев обоих романов также выражена в использовании большого количества художественных деталей, которые, на первый взгляд, не несут в себе никакой эмоциональной или же эстетической ценности. Например, простые бытовые детали в романе Булгакова, сообщающие читателю о жизненном порядке окружающего его общества (наддверные вывески в кабинетах дома Грибоедова, мрачные детали ночных Арбатских переулков…). Сознание протагониста постоянно обращается к неприметным деталям вроде тех «отвратительных» желтых цветов, которые держала Маргарита при первой встрече двух возлюбленных. Данные детали помогают читателю по-настоящему почувствовать атмосферу происходящего, а главное, понять мысли героя, память которого крепко держится за эти бесценные воспоминания.
Бытовые детали также играют важную роль в речи Аустерлица. Так, холодные детали дома его приемных родителей и школы-интерната помогают нам глубоко прочувствовать трагедию детства героя и причины его одиночества. Воспоминания героя о Пражском доме его родителей, наоборот, заставляют нас восторгаться теплой простотой «сладкого запаха» и «вечно распахнутых окон», впервые наполняющих героя ощущением искреннего счастья. Все эти бытовые детали заставляют вибрировать наши чувства; эмоции самого героя существуют здесь и сейчас, и мы приобретаем уникальную возможность испытать их вместе с ним. Важно также обратить внимание на огромный словарный запас Аустерлица. Тщательно выбранные прилагательные еще более четко передают эмоции героя, передавая красоту его светлых воспоминаний, или же, наоборот, холод его одинокого детства. Переводчик данного романа, Марина Коренева мастерски сумела донести эти эмоции до читателя, несмотря на многообразность сложных прилагательных немецкого языка оригинала.
В целом, речь героев Михаила Булгакова и Винфрида Зебальда проникнута таким огромным объемом художественных приемов вовсе не случайно. И Мастер, и Жак Аустерлиц, являются самыми настоящими героями своего времени, литературными кумирами для современного читателя. Глубина авторских идей заложена именно в речи главных героев, через которую отчетливо переданы их переживания и взгляды на мир. Данные образы сопоставляются с речью окружающих их людей, тем самым заставляя читателя понять всю важность существования героев, которые навсегда останутся в нашем сознании. Оба героя – целостные личности, обладающие редкой способностью качественно рефлектировать на произошедшие в их жизни события, тем самым поднимаясь над увязшим в приоритетах ложно понятого прогресса обществом советской Москвы или же Европы двадцать первого века. В результате, задача читателя заключается в распознавании того, что именно такие люди, как Мастер и Аустерлиц, и двигают наш мир вперед и открывают нам глаза на свет истины.
(Ксения Морозова, 17 лет) 2015
Как пространственные образы помогают понять главные идеи авторов
(Дж. Остин «Чувство и чувствительность», М. Булгаков «Белая гвардия»)
Определение времени и пространства – это необходимая составляющая каждого литературного текста, хронотоп, в котором развивается сюжет и авторские идеи. Пространственные образы помогают читателю распознать эти главные идеи текста благодаря своей архетипичности. Иными словами, эти пространственные формы уже существуют в подсознании читателя в виде различных образов, картин, фантазий и интуитивно помогают восприятию основного контекста произведения.
Можно часто встретить, например, такие архетипические пространственные оппозиции в русской литературе, как дом/лес, дом/антидом, дом/дорога, город/провинция, пространство жизни и смерти. Контраст двух противоположных пространств имеет целью «черным по белому» отразить центральные идеи автора. Рассмотрим правдивость данного утверждения (или роль пространственных образов в формировании главных идей) на примере романа Дж. Остин «Чувство и чувствительность» и романа М. Булгакова «Белая гвардия».
В романе английской писательницы Дж. Остин «Чувство и чувствительность» сюжет основан на путешествии его главных героинь Элинор, Марианны и их матери из Норленда в Бартон и далее – в Лондон и обратно в Бартон. Автору важно было показать то, что большую часть времени главные героини проводят в провинции. Семью Дэшвудов ничего не отвлекает там от собственного совершенствования: художества Элинор и занятий музыкой и литературой Марианны. Эти герои не привыкли к городской суете, в которой выросли противопоставленные им героини. Ясно видно, что те, кто живут городской жизнью, например сестры Стил, мисс Палмер, мисс Феррас и ее дочь Фанни имеют ряд абсолютно других качеств. Они отличаются особой манерностью и светскостью обращения с окружающими, на которую их обязывает столица. В данном случае противопоставлены два пространственных образа – город и провинция. Дж. Остин пытается передать то, что манеры и манерность светского общества и обязанность им соответствовать могут убить настоящие чувства человека: можно забыть, как по-настоящему любить или по-настоящему дружить. Так, Люси Стил верит в то, что у них с Элинор настоящая дружба, а с Эдвардом настоящая любовь, что опровергается в финале романа, когда Люси выходит замуж за уже богатого брата своего «любимого» (Эдварда) - Роберта.
Эта же идея о воздействии родной земли на формирование личности прослеживается и в романе М. Булгакова «Белая гвардия». Все события в романе происходят в Городе, где родились и выросли главные герои. Автор делает акцент на уникальности этого места: «...и было садов в Городе так много, как ни в одном городе мира» и «зимою, как ни в одном городе мира, упадал покой на улицах и переулках … Города». Заметим, что само слово «Город» автор всегда пишет с заглавной буквы. М. Булгаков олицетворяет этот маленький, но такой важный для героев романа, клочок Земли, вносит так много поэзии в его описание: «играл светом и переливался, светился, и танцевал, и мерцал Город по ночам до самого утра, а утром угасал, одевался дымом и туманом». Но уникальность Города начинает пропадать в разрушительном вихре войны: все больше и больше людей разрушают его уютную атмосферу. Противостоящие силы словно растягивают Город в разные стороны: большевики, армии Петлюры и Гетмана, новая формирующаяся армия (белая) пытаются полностью завладеть им. Идея, которую преследовал автор в создании этого пространственного образа, заключается в трагичности каждого такого уголка Земли, как этот Город, где люди продают душу дьяволу, рискуют своими жизнями и жизнями братьев, обрекают свою Родину на произвол судьбы.
Однако для того чтобы донести всю серьезность проблемы Гражданской войны на Украине и спасти свой любимый город от апокалипсиса М. Булгаков вводит в роман онтологическую пространственную оппозицию: пространства жизни и смерти. Эти два образа сходятся во сне Алексея Турбина, где он видит полковника Най-Турса и вахмистра Жилина в раю. В данном эпизоде герой из одного пространства – покойный Жилин - встречается с героем из противоположного пространства – живым спящим Турбиным, для того чтобы найти истину. Она нашлась в словах самого Бога: «Все вы у меня, Жилин, одинаковые – на поле брани убиенные». Автор показывает, что независимо от того, к какой армии мы принадлежим, все мы люди одинаковые, судимые по одним правилам. Не зря вторым эпиграфом романа является цитата из Библии: «И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Сам автор – свидетель этого суда. Возможно, он не беспристрастен, но в романе справедлив и объективен.
Встречи пространственной оппозиции жизни и смерти в образе дома Турбиных и оппозиции земли и неба в образе Города усиливают восприятие трагичности произведения: читатель чувствует, как рушатся идиллии многих семей в борьбе за свою Родину; чем приходится жертвовать, когда потеряна вера и сплоченность народа.
Наряду с пространственными образами, индивидуальными для каждого отдельного литературного произведения, существуют и традиционные, часто используемые вечные образы. Одним из таких, например, является образ дома, который встречается в обсуждаемых произведениях. В самом начале романа «Чувство и чувствительность» героини вынуждены сменить свой дом в Норленде на маленький коттедж в Бартоне. Мы видим душевную привязанность главных героинь к их старому дому: Марианна плачет: «Милый, милый Норленд! Когда перестану я тосковать по тебе!». Автор замечает, что, «прощаясь с местом, столь дорогим их сердцу, они (семья Дэшвудов) пролили немало слез». В атмосфере этого дома уже закрепилась их благоприятная энергетика, а стены пропитались любовью к музыке и литературе. Но и в новом доме в Бартоне героини смогли обрести уют, а скорее, его создать: «каждая занялась собственной комнатой, расставляя книги и безделушки, чтобы почувствовать себя дома. Фортепьяно Марианны было распаковано и бережно водворено на отведенное для него место, а рисунки Элинор украсили стены гостиной».
Образу дома в «Белой гвардии» тоже выделено особое место. Автор подчеркивает контраст между беспокойством в Городе и уютом дома Турбиных: «Но, несмотря на все эти события, в столовой, в сущности говоря, прекрасно. Жарко, уютно, кремовые шторы задернуты. И жар согревает братьев, рождает истому, «...» скатерть, несмотря на пушки и на все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна». Именно поэтому так много героев ищут спасения и приюта в этом доме: не только его постоянные жители Елена и братья Турбины, но и их друзья – Мышлаевский, Шервинский, Карась и, позже, Лариосик. В этом доме Елена – хранительница домашнего очага. Именно ей завещала мать: «дружно…живите», именно ее просят об убежище: «позволь, Лена, ночевать».
Таким образом, во всех трех произведения образ дома является храмом души и семьи, в котором формируется уникальная атмосфера и энергетика его жителей. Нельзя упустить из внимания то, что дом в произведениях русской литературы - это больше чем семейная крепость. Дом в русской культуре всегда ассоциировался с образами рая. Так, например, в романе Булгакова Елена запирается в своей комнате, как в келье, и просит о спасении жизни своего старшего брата. И, главное, Бог слышит эту молитву и дарует Алексею Турбину выздоровление и жизнь. Пространственный образ дома строит ряд ассоциаций с самыми высшими, вечными ценностями, такими как, семья, дружба, любовь, вера. А именно на этих понятиях построены главные идеи авторов.
Можно сделать вывод о том, что пространственные образы играют огромную роль в создании общей картины, основы, на которой развивается сюжет литературного произведения. На этих образах строится хронотоп произведений и очерчивается необходимый культурный контекст, что помогает читателю сродниться с миром, который был дорог автору, стать его желанным гостем и обогатиться духовно через эмоциональную привязанность к героям и их нелегким, но таким богатым судьбам.
(Ксения Самаркина, 17 лет) 2013

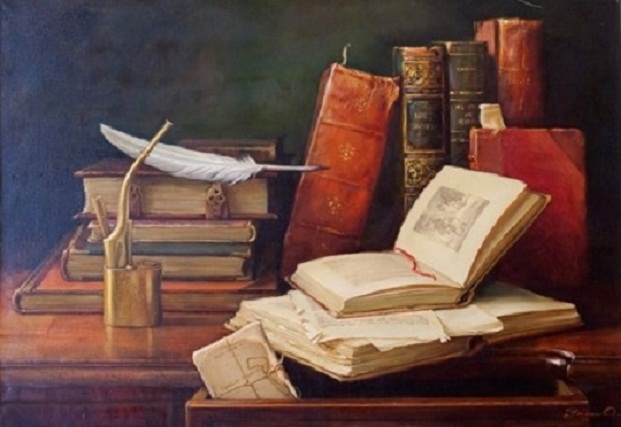

Поделиться с друзьями: